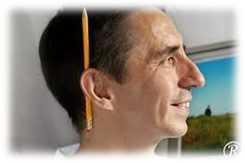Карельское ТВ. Часть 2.
Предисловие к цензурному варианту.
Старший редактор редакции Народного хозяйства Вениамин Фёдорович Хайкичев
Покойный кинооператор Саша Веснин, с которым мы приятельствовали семьями, рассказывал про старшего редактора «Народного хозяйства» Веню Хайкичева.
Тот вёл и готовил передачу «Край карельский, край лесной» и часто ездил в командировки, где кирял по-чёрному в день приезда. Не как мы все, а, что называется, «до поросячьего визга». Так вот, Саша рассказывал, с юмором, как всегда, что по приезду на место Веня сказал, что нужно снять синхрон с начальником леспромхоза. Пока Саша разбирал камеру, а звукооператор готовил магнитофон, а это в целом занимает не больше 10 минут, Хайкичев с директором успели досуха опорожнить под какую-то нехитрую закуску типа бычков в томате с краюхой хлеба бутылку водки на двоих. Синхрон, впрочем, прошёл с блеском, и директор леспромхоза был непринуждён, розовощёк, синенос и раскован.
Тот же Саша вспоминал, что наутро, когда у всех ломило от вчерашней выпивки в висках, и на мир смотреть никому не хотелось, Вениамин Фёдорыч Хайкичев, свежевыбритый, бодрый, пахнувший одеколоном «Шипр», всех подбодрял к дальнейшим подвигам и съёмкам. И так продолжалось дня три-четыре. В четверг или в пятницу съёмочная группа возвращалась в Петрозаводск.
Фиксированного расписания у нас никогда не было, в эфир никто не торопился, он, как правило, был запланирован на неделю после следующей, если не позже. В целом Веня Хайкичев был парнем неплохим. Когда я был вроде как под его началом, работая в редакции «Народного хозяйства», он никогда ни во что не вмешивался. Подмахивал все заявки и бумаги, которые ему давали на подпись, не читая, полностью доверяя нам с Сашей Колобовым.
Единственный неприятный момент, связанный с ним, но в том нет ни капли его вины, состоял в том, что его жена умерла зимой. Очень холодной, проморозившей землю на метры вниз. А службы копания могил в том виде, в котором мы её знаем, то есть заплати деньги похоронному бюро и будь уверен, что яму выроют как нужно, тогда не было. Много чего в той совдепии не было, и я сам копал с Сергеем Савченко могилу для матери Юрия Марковича Апполинарии на Сулажгорском кладбище. Только копали мы её летом, кидали лопатами песчаную почву. А жена Хайкичева отдала богу душу в мороз. Обстоятельства её смерти мне неизвестны, но я хорошо помню, что мама Натальи Ильиной, нашей одногрупницы, вела под редактурой Хайкичева какую-то передачу про садоводов или что-то в этом роде. Она же была деканом естественно-географического факультета нашего пединститута. Так вот она как-то раз, при случайной встрече со мной не помню при каких обстоятельствах, пылала сильной ненавистью к бедному Вене и кляла его на чём свет стоит. Вину за безвременную кончину она возложила тогда, помню, целиком и полностью на супруга. Но вина штука сложная вообще-то.
Так вот, рытьё той могилы для усопшей жены Хайкичева я не забуду никогда. Потому что нас, как коллег по редакции, попросили помочь. В страшный мороз мы долбили твёрдую, как бетон землю, жгли покрышки, работал дизель от ПТС (Передвижной телестанции), вроде приводивший в действие отбойный молоток. Но работа почти не двигалась. Я был в каких-то тесных кожаных сапожках, красиво выглядевших на ноге, когда ты идёшь сто метров по улице или едешь в тёплом автобусе, но совершенно непригодных для работы в жуткий мороз. Я больше грел ноги у дизеля, чем долбил землю. Мне уже было абсолютно наплевать, что подумают или скажут другие. Я не собирался подвергнуться ампутации конечностей ради жены какого-то Вени, забил на всё болт и ждал только, когда меня оттуда увезут. Когда и как увезли, я не помню, но хорошо помню, что глубоким уже вечером Хайкичев приехал с тушёной картошкой с мясом в кастрюльке, обёрнутой одеялом и с водкой для нас, гробокопателей. Я выпил той водки, поел картошки, и на душе стало ещё гнуснее после этого. И голова разболелась. Впрочем, раз вы читаете эти строчки, то жив я тогда остался. А ноги у меня и до этого были то ли обморожены, то ли что, только вот кровообращение в них нарушено. Их
Не то с моими коллегами. Один из них, назовём его Васей, имел любовницу в одном районном центре. Я хорошо помню её имя, но пишу ведь я сейчас цензурный вариант, верно? До того момента, как я с ней в том же райцентре познакомился, она встречалась с Васей несколько лет. Я не знаю, что он ей пел, наверное, то, что исполняется в подобных случаях: «Я брошу опостылевшую жену и женюсь на тебе, только нужно время» и т. д и т. п. По счастью, я никогда не опускался до подобных изречений и даже не оказывался в подобных ситуациях. Как-то раз я был в командировке с этим самым Васей, конечно, в том самом райцентре, потому что Вася держался за такие командировки мёртвой хваткой, и, если туда намечалась командировка, все знали, что лучше отдать ему. После съёмочного дня, сейчас уже ни за что не вспомнить, был ли он простым или сложным, мы собрались с Васей, его подругой, и на это мероприятие была приглашена очень симпатичная девушка. Чистая «модель». Тогда только начали узнавать это слово. Мы провели тогда вечер в её во всех отношениях благоустроенной квартире, как я понимаю, папаша был далеко не простой парняга, и дом был полноценным, может и двухэтажным, просторным со всеми удобствами. Его строительство наверняка стоило больших денег, но достался он им наверняка бесплатно, понятно, что папа должен был принадлежать к верхушке совхоза. Мы тогда распили на четверых бутылочку какого-то сухого, попрощались ближе к 11 вечера (не знаю, что там делал потом Вася со своей подругой, но догадаться можно).
Я побрёл к себе в гостиницу. Потом я эту девушку видел на каком-то показе мод в гостинице «Карелия», снимал её на фото. Она была, что называется, во всех нарядах хороша. Она меня, несомненно, узнала. Но я к ней не подошёл. Может быть, она была одной из десятков судеб, просвистевших мимо моих ушей. Может быть я с ней бы, как раз, и нашёл бы счастье. Мы никогда об этом не узнаем.
Другим случаем, когда я был свидетелем того, как быстро завязываются отношения, была поездка в тот же самый Олонец с другим коллегой, назовём его Вовой. Дело было, наверное, в 1986, а может и в 1987 году. Я тогда был уже заматеревшим редактором, занимался строительством и перед командировкой позвонил начальнику Олонецкой ПМК (так назывались Передвижные Механизированные Колонны, ведшие строительство по всей Карелии), чтобы он устроил нас на ночлег, и чтобы мы не жили в простой гостинице. У начальника оказалась целая трёхкомнатная квартира для таких случаев, куда мы все и въехали. Дело было в сентябре. Мы снимали что-то для нашей редакции «Народного хозяйства», что именно я, конечно, уже не помню. Зато хорошо помню, что походя сняли какой-то сюжет про собирающих картошку студентов Петрозаводского университета.
Пока снимали, Вова, человек, который мог расположить к себе любого при любых обстоятельствах, к тому же кинокамера располагала, обаял какую-то студентку, собиравшую картошку, сделав её крупный план. Студентка быстренько пригласила его на танцы, которые должны были вечером состояться в их бараке. Делать после съёмок нам особенно было нечего, поэтому все мы туда как-то направились. Может даже и на машине поехали, но точно сказать я не могу. Зато хорошо помню, что через танец-другой мы все почувствовали, что здоровые и полные соков студенты мужеского полу нас всех троих, а их было штук сорок, скоро начнут пиздить, и что отбиться от пизжения не будет никакой возможности. Поэтому девушку, которая была очень сильно расположена к Вове, мы посадили в «Уазик» и привезли в ту самую 3-комнатную квартиру от ПМК. Я смутно помню, что мы до этого затарились достаточным количеством выпивки. В квартире той было всё, что нужно гостям: чайник, стаканы, холодильник. Короче, мы киряли в компании той довольно симпатичной барышни, Вова был в ударе, говорил непрерывно, рассказывал смешные истории. Дама и без того была подпавши под его шарм.Я в упор не помню, чем там дело между ними закончилось. Возможно, мы выпили столько, что утратили всякую наблюдательность. Как бы то ни было, я думаю, что Вова увёл, по окончании застолья, даму в «свою» комнату, где её и употребил по назначению. Девушка утром ушла от нас в свой студенческий лагерь, надо было топать километра три. Мы поехали на съёмки, потом домой в Петрозаводск. Там у нас было столько дел, было столько командировок, что об этом случае мы все забыли. Казалось, навсегда. Но Вова имел неосторожность оставить ей номер телефона или адрес, и дама в один прекрасный день то ли явилась к нему домой, то ли позвонила.
Он потом говорил: «Как трудно объяснить даме, что в командировке у меня один моральный облик, а дома – совершенно другой».
Вот у меня так никогда не получалось: обаять краснобайством кого бы то ни было. А у Вовы получалось ещё как. Дар краснобайства был ему дан от роду. Потом, когда мы ездили в велопробег в мой родной город Сортавала, я буду наблюдать схожую ситуацию с одной девушкой и одним участником велопробега. Назовём его Жорой. Всё было примерно так же, как в случае с Вовой, правда Жора брал не красноречием, а мужской красотой. И она тоже явилась однажды к нему в Петрозаводске, правда в редакцию. Ну, как-то разобрались они.
Я пережил троих председателей: Прокофьева (он меня принимал на работу), Прокуева (он меня надул с квартирой) и Тольского, благодаря которому я организовал Петронет. Оба первых давно в могиле, последний перевалил в своём возрасте за 80, но скрипит ещё на 11 июня 2024 года, когда я написал это. Был один интересный парень, приревновавший как-то меня к Гале Крюковой. Его имени я менять не буду.
Аркаша работал у нас осветителем и косил под персонажа из фильма «Три мушкетёра», там, где Боярский играет. Идиотское кино, очень популярное в народе, но я не опустился до того, чтобы его посмотреть, а песня про «мерси боку» меня вообще выводила из себя.
Аркадий отпустил длинные волосы, как у Д’Артаньяна или кого там, снимал на любительскую камеру мультфильм с пластилиновыми фигурками мушкетёров, в общем, сдвинулся нехило. На снимке он позади Бори Конанова и справа. Но ещё больше он сдвинулся на страсти к Гале. Несмотря на то, что она сразу же ему объяснила, что он не есть её полёта и помёта птица, он продолжал её преследовать, ходил за ней по пятам при всяком удобном случае, а случаи такие представлялись в первую очередь в командировках.On a morning from a Bogart movie
In a country where they turn back time
You go strolling through the crowd like Peter Lorre
Contemplating a crime
She comes out of the sun in a silk dress running
Like a watercolor in the rain…
МЫ ВСЕ ДРУЖИЛИ. КАК НАСЕКОМЫЕ В СТЕКЛЯННОМ СОСУДЕ
Когда я в конце 2020 года читаю воспоминания коллег по Карельскому ТВ, то диву даюсь по поводу того лицемерия, которым проникнуты их опусы. Вот, например, Витя Яроцкий пишет в газете «Лицей» 3 апреля 2018 года под броским заголовком:
«Мы все дружили»
Наша работа всегда была связана с командировками, — продолжает Виктор. — Я практически не видел, как росла дочь. По три недели в месяц бывал в командировках, так что не дружить было нельзя. Я старался со всеми ладить.
Заголовок этот не совсем правдив, если не сказать, что он чистой воды враньё. Дружили, как пауки в банке.
Слева направо: Александр Веснин, Анатолий Новиков, Евгений Сенченко, Виктор Яроцкий, Александр Захаров, Владимир Волотовский, Иван Траленко и Борис Конанов. Отсутствуют двое – Сергей Петруничев (жив) и Геннадий Грошев (умер в 2019-м, если не ошибаюсь). Из тех, кто на картинке в живых к 20 октября 2020 года остались Конанов, Яроцкий и Волотовский.
Между Яроцким и Захаровым всё время шло соперничество за звание «лучшего оператора ТВ». Об этом все знали. Сенченко считался худшим оператором, о чём все судачили за его спиной. Режиссёр Юрий Чевский при мне зверел от привезённого им материала, когда собирался его монтировать. Эту пальму они делили с Волотовским. Захаров не раз говорил в лицо Волотне, что тот выбрал неправильную профессию. К тому же и человечком «Мама Удава» был с гнильцой. И остался таким же.
Сейчас в Финляндии живёт. С появлением соцсетей из небытия стали появляться те, о ком ты и думать забыл. Просились в друзья, редко к кому я просился сам. Прислал мне запрос и Волотовский. Написал, что ему «страсть как интересно узнать, как я поживаю». Но вопросов не задал. А году в 2010 я его встретил в паспортном столе Петрозаводска. Я делал себе тогда российский «вечный» паспорт, который и до сих пор у меня. Волотовский тогда лишь бегло поздоровался и поспешил бочком в сторонку. Вот тебе и «интерес» к моей жизни. Думаю, что не стоит говорить, что тут же по приходу в квартиру с Интернетом я его попёр из друзей. Сейчас, правда, в Фейсбуке задружил, и он регулярно лайкает мои посты. Я его – ни разу.
Ну, на Карельском ТВ дружили, наверное, только дядя Траленко с племянником Яроцким. К тому же Яроцкий был явным карьеристом, вступил в партию чуть ли не сразу по окончании комсомольского возраста. Они же приравнивались к рабочим, не то, что мы, вшивая интеллигенция, поэтому «ум, честь и совесть эпохи» охотно таких брала в ряды. В тех немногих командировках, что мне доводилось с ним работать, он был скорее привередлив, немножко высокомерен. В этой же статье Яроцкий выставляет фотографию жены с дочкой и строит из себя примерного семьянина. На самом деле все знали, что его некрасивая жена, а сам он был парнем весьма симпатичным, буквально донимала его своей ревностью, проверяла каждый его шаг и муштровала. Он все годы был у неё под каблуком. Она, вроде, работала в «Карелпотребсоюзе» и имела доступ к дефициту, поэтому Яроцкий всегда был очень хорошо одет и обут.
Я уже говорил, что в телевизионной местечковой иерархии операторы ставили себя выше нас, редакторов и капризничали по-чёрному. Добрые слова в адрес некоторых из них есть, как не быть? Саша Захаров, (снимок весны 1986 года, когда мы готовили судно Полярный Одиссей к плаванию по Белому и Баренцеву морям, был самым симпатичным мне парнем плюс к тому, что блестяще снимал. Когда я только-только стал работать в редакции пропаганды, он дал мне почитать несколько книжек из своего архива о киносъёмках.
Мне они мало что дали, потому что во всех этих пособиях непременным условием был неограниченный лимит плёнки, а я писал, какие крохи нам выдавались. Да, тут, наверное, самое место сказать, почему «Молодёжка» никогда не испытывала такого дефицита. Я поначалу думал, что у них лимит, как во всех остальных редакциях. Потом случайно кто-то обронил фразу, что им, мол, хорошо, они плёнку не мерят. Я к фразе прицепился и выяснил, не помню уж как, что да, на самом деле тот же Захаров как-то создавал себе заначку, делал запас плёнки, режиссеры у них всегда были без вариантов одни и те же: Лео Хаапалайнен, Ирка Смирнова, одно время бывшая женой Захарова, да Галя Мальцева, очень нехорошая собой, на мой вкус, охмурившая Спиридонова, которого бросила вполне симпатичная Нинка Васина. Васина есть на фотографии одной из дискотек, которую мы вели с Борзовым в педвузе. И если Лео и Галя время от времени работала и на другие редакции, то Ирка, по-моему, была приписана к молодёжной редакции как крепостная. Бабёнка она была стервозная, толстозадая, хоть и посимпатичнее Мальцевой, но ненамного. Как её несколько лет Сашка Захаров выносил даже непонятно, но отзывался он о ней нехорошо. Даже зло, я бы сказал. Но ушёл он от неё всё же вовремя и успел пожить в мире и согласии с приятной и симпатичной Мариной Юргенс. Марина есть на фото эпопеи 1986 года с “Полярным Одиссеем”. Я сделал маленький кроп из групповой фотографии. Саша держит на руках своего сына, но я не знаю, от Марины он или нет. Я точно знаю, что у него был ещё сын Рудик, который к 1996 году был подростком лет 16-17. Совсем незадолго до моего отъезда в Канаду мы выпивали по сто граммов в кафе Дома профсоюзов, дело было, наверное, в марте 1998 года. Я уже сидел на чемоданах и помню, говорил Захарову о том, что ему тоже стоит подумать переехать куда-то, например в Финляндию, где ему сделают шунтирование коронарных сосудов и спасут. Он соглашался, но судьбе было угодно, чтобы умер во сне где-то в апреле. Он стоял на операцию на это дело в очереди, где, в Москве ли, в Петрозаводске ли я уже не помню, но умер, не дождавшись очереди. Я сам только что прошёл скитания по местным больницам и знал про карельское здравоохранение из первых рук. Марина Юргенс мне звонила и звала на похороны и поминки, но я не пошёл. Я очень не любил эти мероприятия и даже несколько принципиально не пошёл прощаться ни с Юрием Чевским, ни к Галей Парфенчиковой, хотя очень хорошо к ним относился.
С Весниным мы приятельствовали семьями. Я не пишу, что дружили, потому что как-то раз, когда отмечали на его дачном участке в Орзеге день рождения его брата, Саша поднял тост и сказал, что-то типа, выпьем за моего брата, друзей у меня нет, а есть брат. Меня тогда это сильно резануло, потому что в присутствии нас с Мариной, считавших уже несколько лет его и супругу Олю друзьями, он мог бы такого и не говорить. Сказал бы в наше отсутствие брату, не было бы никаких проблем. Впрочем, это было уже году в 1985–86, когда мы практически перестали выпивать вместе. У меня появились другие друзья, другие интересы, а после ухода с Карельского ТВ в 1989 году я потом Сашу встретил только один раз уже в начале 1990-х. Он сильно постарел, потолстел, продолжал, наверное, курить. В 2013 году умер от рака.
Несмотря на то, что Евгений Сенченко считался плохим оператором, мы с ним очень хорошо ладили во время командировок. Для наших задач не требовалось художественных изысков на плёнке, главное, чтобы из командировки не был привезён сплошной брак. Что случалось, хотя и редко, но передачу всё равно надо было делать и как-то выворачивались. Контроль качества был строгим и приговор «не в фокусе» звучал очень часто. Это означало, что сюжетно важные метры летели в корзину. То же касалось переэкспонированной и недоэкспонированной плёнки. Особенно мы жили с Евгением душа в душу в последний мой период работы, когда я трудился в редакции «Народного хозяйства» и отвечал за строительство. Я уже говорил, что мне привезли из Франции примерно летом 1986 года мини кассетный диктофон «Перлкордер» от фирмы Олимпус и отпала необходимость доставать блокнот, когда я беседовал с прорабами и бригадирами на стройке. Впрочем, собеседникам прибор лучше было не показывать – они мигом затыкались, видя эту «шпионскую» штучку. Но в нагрудном кармане микрофон всё регистрировал за милую душу, и я помню, как Евгений восхищался моим приобретением. Ничего подобного, конечно, ни у кого из местных журналистов, как на телевидении, так и в газетах, тогда не было.
Меня устраивало и то, что он не пил спиртного вообще после перенесенного инфаркта и вёл здоровый образ жизни. Бегал по утрам даже в командировках, вёл какую-то секцию аэробики от комитета по ТВ и любил надоесть разговорами на тему, как этот образ жизни вести. До такой степени, что не различал совершенно, кто перед ним сидит в качестве собеседника. Веснин со смехом рассказывал, со слов водителя Вовы Клодта (о нём надо писать отдельную поэму), что когда они поехали в какую-то командировку, где у Вовы имелась, как во многих населённых пунктах, какая-то знакомая прошмандовка, дававшая за стакан вермута, то за столом с этим стаканом оказался и непьющий Евгений Петрович, который у прошмандовки ненавязчиво спросил: «А вы по утрам бегаете?» Вова сказал, что чуть не упал под стол от такой простоты. Неужели, спрашивал он, не видно, что она и ходит-то шатаясь, куда ей ещё и бегать? Когда мы с ним снимали какую-то стройку в Сегеже, мы заселились в один номер, а шофёр и звукооператор с осветителем заняли другой. Вежливый Евгений Петрович перед отходом ко сну сказал мне: «Сашенька, я, знаете ли, немножко храплю во сне, так что будьте любезны, если храп вас разбудит, присвистните слегка. Я сразу перестану». И таки-да, храпеть он стал минут через пять уже. Когда я свистел, храп прекращался. На минуту-другую, после чего возобновлялся с новой силой. Так я всю ночь и просвистел.
Неплохо было работать с Анатолием Новиковым (фото Б. Семенова), но я не могу припомнить ничего такого за всю работу с ним. Да надо сказать, что в командировки Новиков практически не ездил, то ли он больной был, я помню, у него всегда папироска из рта торчала, то ли просто как-то отмазывался.
Потом уже в Перестройку я его встретил раз на улице, мы заговорили про компьютеры, с которыми оба только-только познакомились, он что-то говорил про операционную систему Windows, делая ударение на последнем слоге, отчего у него получалось «Виндòвс». Страшно был, помню, увлечён перспективой, которую персональные компьютеры открывали перед бывшим советским человеком.
Ещё очень хорошим и оператором, и человеком был Геннадий Грошев. На снимке Б. Конанова он уже пенсионер, может быть и незадолго до смерти.
Мне не довелось с ним работать много, а в командировку мы вместе, насколько я помню, ездили всего два раза.
Первый раз в Калевалу, когда снимали сюжет для «Телестружки».
Об этой передаче надо будет рассказать отдельно, но, поскольку она увидела свет, вернее её возобновили после большого перерыва ближе к концу моей телевизионной карьеры, то черёд наступит.
Мы с Геной, с одним молодым звукооператором, фамилию и даже имя которого я напрочь забыл, но помню, что парень был стрёмный, взбалмошный, крикливый и ненадёжный, да и фиг с ним совсем, полетели на самолёте делать сюжет про неправильно построенную дамбу, которая, по идее должна бы ограждать посёлок Калевала от потенциальных наводнений.
В моём архиве от той поездки остались только три снимка. Первый - фото посёлка, на нём видно, что его действительно заливает в паводок.
А по прилёту Грошев снял меня, а я его. Оба с сигаретой. Хорошо помню, что нас катали на катере по озеру, какое там есть озеро в этой Калевале, и что сюжет мы сняли худо-бедно. Это было точно уже в годы перестройки, почему, скажу ниже.
Что я хорошо запомнил ещё, так это то, что в то время были в моде всякие экстрасенсы, кашпировские с чумаками, и на местном уровне вещуньи клары всякие. Они процветали. Гена себя тоже вообразил целителем и долго уговаривал меня на сеанс психотерапии. В гостинице делать было совершенно нечего, мы тогда совсем не пили, ни капли, может быть, горбачевский сухой закон тогда был, поэтому я согласился. Он усадил меня на стул и стал водить руками вокруг головы. Но поскольку курил он много, то от его пальцев исходил такой застоявшийся запах табака, что через несколько пассов близ моего носа я сказал: «Гена, ты извини, но я не могу расслабиться в таких условиях». Я не стал его обижать, посылая помыть руки, конечно. Но на этом сеанс, помню, закончился.
Да, если бы не было года на этих трёх ч/б карточках, я бы всё равно пометил хронологически эту поездку в промежуток после 1986 года. Потому что в ту командировку мы посетили местный видеосалон в Калевале и посмотрели «Греческую смоковницу» (The Fruit is Ripe). О видеосалонах мы уже много чего знали, ведь первый такой открыл в Петрозаводске в бывшем помещении кафе «Весна», куда мы студентами любили захаживать поесть соляночку или яблоки в тексте, некто Благодаров.
Он в 2015 году сел на 15 лет и речь о нём, возможно, ещё пойдёт в соответствующем хронологическом разделе. В завершение рассказа про Гену скажу, что его «ветка имени Грошева» долго ещё вспоминалась среди редакторов и операторов. Что это означало? Когда надо было приукрасить сюжет, типа на поле пашет один трактор, то есть надо было из ничего слепить «сюжет», то срывалась с дерева ветка. Если дело было весной, то использовалась цветущая черемуха или сирень, если осенью, то желтые листья, ну или еловая лапа тоже годилась. Осветитель или редактор держали ветку в углу объектива, порой трясли, чтобы создать ощущение ветра и всякое такое разное. О его смерти мне написал Боря Конанов. Он же и прислал цветную фотографию Гены с керосиновой лампой и чашкой, что вы видите выше. Я не знаю, делал ли Боря её сам, или она чужого авторства.
===============
ВОДИТЕЛИ ГОСТЕЛЕРАДИО КАРЕЛЬСКОЙ АССР
Чтобы не задерживаться дольше на операторах, расскажу немного о водителях. Об одном, который выпивал маленькую сразу после приезда в гостиницу, я уже говорил. Но звездой комитета по ТВ и РВ был, безусловно, Георгий (Жора) Хорин. На моём снимке он в шутку кусает белый гриб в Пудожском районе 31 июля 1985 года. Мне довелось с ним ездить не менее чем в десяток командировок. Это был маленького роста, худощавый, испитый, насквозь прокуренный мужичок. Он держался с невероятным достоинством и был абсолютно невозмутим. У него всегда был ответ на любой вопрос, и все это знали. Особенно любил подначивать его оператор Саша Веснин. Он рассказывал невероятное количество случаев с ответами Жоры на его вопросы, я почти все позабыл, кроме вот такого. Проезжали как-то они с Хориным мимо Дома Композиторов, то есть бывшей дачи аптекаря Яскеляйнена. Веснин спрашивает:
– Жора, а ты тут бывал? –
Григорий Васильевич некоторое время молчит, потом с достоинством отвечает:
– Не только был, но и культурно отдыхал! –
Веснин не отстаёт:
– Жора, а какой там интерьер?
Не вполне уверенный в том, правильно ли он понимает значение этого слова, но на всякий случай опять немного помолчав, он выпаливает:
– А никакого там интерьера! –
Потом оказалось, что Жора и впрямь был лично знаком с директором Дома композиторов. Об этом – чуть позже. О том, как он «улучшил» стих Лермонтова «На смерть поэта» я говорил в моей самой первой книге о детстве. В конце июля 1985 года мне довелось ездить с ним в Пудож. Как именно мы ехали на машине, я уже не помню. Обычно в Пудож ездили снимать на «Комете» – теплоходе на подводных крыльях, или летали на самолёте, как мы с Ларионовым в начале моей телевизионной карьеры.
Мне, правда, довелось в 1994, кажется году, плавать в Пудожский район на теплоходе начальника БОПа Бачинского, но об этом будет отдельный рассказ, относящийся, впрочем, к периоду моей работы в Петронете. А тогда, в июле 1985 года мы с ним и ещё, надо полагать, с тремя сотрудниками, т. е. осветителем, кинооператором и звукорежиссёром, поехали на машине. Я нашёл в своём архиве пять карточек и запомнил ту поездку ещё и потому, что Жора тогда дал мне порулить на этой пустынной дороге, что на фото километров пять. Одному причём. Я угнал его УАЗик куда-то далеко, где-то развернулся, и приехал обратно. Народ за это время набил сумки и пакеты грибами. Тот белый гриб мы взяли, скорее, из-за его размеров. Наверняка после съёмок тут же на дороге и оставили, скорее всего он был червивым. Лес был забит крепкими боровичками и подосиновиками. Худо-бедно до Пудожа тогда мы доехали. Я думаю, что в это достославное время я работал в редакции «Народного хозяйства», отвечая за строительство повсюду в республике с целью заработать себе на квартиру в Петрозаводске. Что успехом не увенчалось. Квартиры я не получил. Обманули дурака на четыре кулака. Но худа без добра не бывает, я понял, что в таком гнилом заведении оставаться можно, только если ты полный неудачник. А я никогда таковым не был. Всегда был если не лучшим, то из их числа. Правда до ухода оттуда остаётся четыре с половиной года.
Потом я один, никто другой не проявил к этому интереса, отправился смотреть монастырь. Вернее, что от него осталось. Когда сегодня, 22 июня 2024 года, я захотел вставить ссылку, то пробежал текст глазами и нашёл интересный факт. В 1919 году на территории Муромского монастыря была организована сельхоз коммуна им. Троцкого. 30 августа 1930 года было принято постановление о её закрытии. Монастырь был заброшен с 1960-х годов, дороги к нему не было и добраться можно было только по воде, как мы и сделали. На левом снимке ниже видны паруса двух яхт, пришедших, возможно из Петрозаводска.
Как я уже говорил, водки было немного с собой, может быть пара бутылок на пятерых, если даже не одна. Я думаю, всё-таки две, судя по тому, сколько её налито в литровой банке Георгия Васильевича, браво, не поперхнувшись, осушившего причитающуюся ему долю.
За горизонтом – столица Карелии. Само собой, я тоже приобщился к прекрасному. И обгрыз здоровую рыбину до костей. Шутка. Её скелет валялся на берегу много дней. Да, я думаю, что водки было в самый раз, минимум две бутылки на пятерых, так как вряд ли с одной мне достался бы почти полный стакан. Вспоминая сейчас тот день… Не думаю, что мы ночевали. Скорее всего, к вечеру поехали домой на базу отдыха, переночевали, а поутру попилили в Петрозаводск.
Но до этого мы провели на том песчаном берегу один из наипрекраснейших дней в моей жизни.Собирали морошку и тут же её ели, забирались на высокий репер, с которого видно было далеко-далеко в звенящей летней голубизне неба.
Когда ненадолго покропил дождик, забрались в какую-то рыбацкую избушку, где нашли газету от 1953 года с некрологом Джугашвили.
----------
Уделив немалую долю внимания Жоре Хорину, не могу не вспомнить ещё двух водил Гостелерадио Карелии. Имени и фамилии первого я не запомнил вообще, но этот водитель ПАЗика был знаменит в фольклоре Карельского ТВ. Он ездил на таком вот древнем драндулете, дверь которого открывалась с помощью рукоятки, приваренной рядом с его сиденьем и длинного рычага на шарнире, ведущего к двери. А знаменит он был тем, что однажды ему сказали, что нужно привезти из театра труппу. На что находчивый водитель ответил, что у него не «катафалка» (чтобы трупы возить). А ещё он занимался обменом квартиры. Впечатление у всех сложилось, что делал он это годами, потому что, если ты, скажем, поехал с ним в командировку, он всю дорогу, которая может длиться и восемь часов, будет тебе рассказывать про варианты обмена. Потом через месяц другой ты сядешь к нему, и он затянет всё ту же песню. Я думаю, что он не мог так долго завершить обмен, потому что у него в квартире был паркет, а все варианты, которые ему предлагали, включали линолеум. Для простоты он называл этот половой материал линолем. И вот, на протяжении долгого времени, от него приходилось выслушивать, что нашёлся хороший вариант, но вот незадача, на кухне, или в прихожей, а может и в комнатах был «линоль». Этим линолем он буквально задолбал всех.
Другим замечательным шоферюгой был Вова Клодт, которого я упоминаю в связке с оператором Сенченко. Он был сыном знаменитого тренера, по-моему, по баскетболу или волейболу, который происходил из немцев. Может быть и родственник – седьмая вода на киселе того барона Клодта, который «лепил и отливал» на Аничковом мосту в Петербурге. Бесшабашнее Вовы не было никого в комитете. Меня бог миловал, а кто-то с ним в машине и переворачивался. Куда-то он врезался и т. п. Сейчас я посмотрел в интернете, фамилия Клодт в основном упоминается в связи с делом карельского следопыта и педофила Дмитриева. Вроде дочь его носит такую фамилию. А Вова затерялся во тьме времен и, возможно, уже не живёт на этом свете. По-моему, ещё в ту бытность он был весь в болячках, сильно пил, сменил нескольких жён. Вроде его даже погнали из Гостелерадио. Но пока ещё не уволили его, Саша Веснин мне рассказывал, что последняя из то ли жен, то ли сожительниц нашла его посреди ночи на скамейке автобусной остановки. Совершенно невменяемого от водки, грязного и вонючего. Привела к себе, пригрела и отмыла. Вроде Вова с тех пор исправился, но это всё могло происходить в последние месяцы моего пребывания на Карельском ТВ, когда события внутри этого выморочного предприятия меня интересовали всё меньше. Я бы, может и не стал упоминать его ещё раз, если бы не запомнил на всю жизнь его шутку. Он как-то сказал, что если наступление паралича в качестве последствия инсульта неизбежно, очень важно предусмотреть, какую половину туловища разобьёт и успеть перекинуть член на «живую» сторону, чтобы он остался действующим…
Думаю, что это всё про водителей, с которыми довелось ездить более-менее длительное время.
ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
Про осветителей, звукооператоров, ассистентов операторов сказать особенно и нечего. Кого запомнил из них так это такой здоровенький весельчак Вова. Он на фото с сайта Волотовского третий справа, между Волотовским и Яроцким. Вова этот был хорошим осветителем и интересовался тем, кто убил Кеннеди. Игорь Макаров, ассистент звукорежиссера, с которым мы ездили в два велопробега, в общем-то симпатичный тихий парень в то время, когда я его знал, женится на не очень симпатичной круглолицей толстушке-проявщице, и мы с Галкой подшучивали над этой четой. Ещё один ассистент кинооператора Лёша, на фото третий слева, рядом с Весниным, который не пил совсем и знал карате, потом уйдёт оператором на Нику. Захаров скажет, что он вообразит себя крутым профи и станет задирать нос. Я один раз столкнусь с ним на концерте Доры Шварцберг, который я снимал. Лёшу тогда не хотели пускать с камерой вообще в Финский театр, сказав, что у Николаева эксклюзивное право на съёмки. Если я не ошибаюсь, он проник без камеры, мы поговорили, он объяснил, что ему нужна лишь минута съёмок для вечерних новостей на Нике, и я милостиво «разрешил» ему снять. В этом ряду особенным прыщом стоит Миша Скрипкин. На карточке он крайний слева. Сейчас он вырос до того, что имеет свою статью в Вики. Интересно, что про отца, давшего ему еврейскую фамилию и характерный нос, там – ни строчки. Судите сами. В сетевой энциклопедии написано - родился 21 марта 1968 года в городе Кемь в семье инженеров-гидротехников. Мать — Нинель Тойвовна Хаккарайнен. С 1974 по 1977 годы воспитывался в семье деда — заслуженного работника культуры КАССР и РСФСР Тойво Александровича Хаккарайнена в городе Сортавала. С 1977 года постоянно проживает в Петрозаводске. Обучался на заочном отделении факультета журналистики Ленинградского Государственного Университета. В разные годы Михаил Скрипкин работал кинооператором на телевидении Республики Карелия, журналистом и фотокорреспондентом в различных карельских СМИ. Руководил рекламными службами, работал с типографиями Финляндии, Санкт-Петербурга, выпускал собственную газету, собственный журнал республиканского уровня.
Работал он, конечно, не кинооператором, а ассистентом, может быть только после моего ухода ему дали операторскую должность. После развала ТВ он сильно поднялся, сейчас является директором издательского дома «Скандинавия», дела которого шли неважнецки последние годы. Я виделся с ним году в 2012 (фото примерно тех лет), он мне заплатил за редактуру одного перевода 50 евро и мы выпили бутылку водки на кухне квартиры тестя и тогда ещё живой и здоровой тёщи на Сыктывкарской, после чего я пошёл Мишу провожать, но он зарулил в кафе торгцентра Лёни Белуги «Лотос» и заказал ещё грамм 200. Я пить ничего больше не стал, его сильно развезло, всю дорогу он говорил, что хочет уехать в Америку и уверен, что, будучи крутым фотографом и оформителем он там не пропадёт ни за что. Я повидал таких в эмиграции вагон и маленькую тележку. Математиков, кандидатов наук, которые колотили мебель на фабриках у индусов или китайцев и т. д. Но Мише тогда не возражал. Мне-то что до него. Добавлю только, что про его заслуженного деда Тойво мой друг Саша Изотов со слов его мамы Эйне рассказывал, что тот всю жизнь постукивал в КГБ на своих сородичей советских финнов.====
ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА ЗАВИСТИ
Но пора переходить и к другим воспоминаниям. Отвлечёмся от командировок и расскажем об атмосфере, царившей тогда на ТВ. Вернёмся к моим первым дням там. Первое отрицательное на меня впечатление было произведено со стороны режиссёра Дианы Нифашевой, считавшейся неофициально «первой дамой» ТВ. Она была статной женщиной, с высокой грудью, лет, может за сорок или к сорока. Само собой мне, двадцатипятилетнему, она казалась уже старухой. Диана Ивановна (кроп фото) была старой девой и работала в основном с Веней Хайкичевым. Веня же про неё и рассказывал байки, в их числе про пошлую картину первой брачной ночи, или первого решительного свидания с мужиком, которое должно было кончиться половым актом. Якобы Диана сказала, в ответ на поползновения ухажёра, что не понимает, как это можно, половым членом да прямо в вагину! Веня пересказывал эту историю с ужимками, долженствовавшими напоминать жеманное гримасничанье Нифашевой, но я не могу судить, насколько хорошо он ей подражал, потому что рассказывал он не мне, а Саше Веснину. Саша невозмутимо выслушал до конца, после чего спокойно спросил: «Вениамин Фёдорович, я всё понимаю, уверен, что именно так и было. Но вот только вопрос: а где же вы в этот решительный момент находились? Под кроватью?» Впрочем, вполне возможно, что такие слухи распускал и какой-нибудь неудавшийся любовник или жених Дианы, которого Хайкичев вполне мог знать, и работавший ранее на телевидении. Ведь шарашка образовалась задолго до моего туда прихода. Но я вспомнил о Диане потому лишь, кстати, она напрочь забыта и есть только одно упоминание её на сайте ГТРК «Карелия», что как-то в разговоре, может быть через месяц-другой после начала моей работы в «Экране дня» Горбачёв мне сказал, что Диана высказала ему претензию по поводу того, что я недостаточно почтительно с ней поздоровался, лишь кивнув, или вообще не поздоровался. Чего я в упор не помнил, конечно. Тогда я и понял, что в отношениях между коллегами на этом ТВ всё очень и очень непросто.
Вторым шоком было, когда на летучке, по понедельникам было такое мероприятие, когда «обозреватель», назначенный начальством, разбирал все передачи за какой-то конкретный день или неделю, я уже не помню. Я ещё не удостоился чести обозревать. Какая-то из режиссёрок, по-моему, это была жена оператора киножурнала «Советская Карелия» выступила уже вне обозрения.
Гена Захаров, добрейший зам. председателя по ТВ, помню, похвалил меня тогда за фразу типа, что символичен факт: энергетики отмечают свой день в самую длинную ночь в году, 22, кажется, декабря. На что эта дама прямо взорвалась и возопила, что это, мол, такое затёртое клише, которого настоящему журналисту надо изо всех сил избегать. Я, честно, никогда до этого фразы такой нигде не встречал и, натурально, счёл её своей находкой. Причём несправедливость этих обозрений на летучках состояла в том, что критиковать журналистов, то есть авторов конечной эфирной продукции, имели право те, кто не выдал в эфир ни одной фразы и не написал ни строчки, то есть режиссёры и кинооператоры. Слава богу, что живые штативы – телеоператоры были такого права лишены. То есть ответить тем же на летучке, «отомстить» им, найдя погрешности в их работе, ты не мог. На снимке - Гена Захаров в 2010-е годы. Написал какую-то книжку и ещё в июле 2021 года был в ролике с Пушкиной. А ещё раньше, в середине 1990-х, мы пересечемся с ним на каком-то семинаре с участием иностранцев из программы ТАСИС, где я переводил с английского и на него.
Где-то к пятому году моей работы на ТВ Нифашева, до этого буквально бывшая воплощением здоровья и симпатичности, можно даже сказать, что она была красива, вдруг пропала из виду, наверное, легла в больницу, никто особенно этого и не заметил, а когда через месяц или больше вышла – её было не узнать. Она как-то съёжилась, усохла, горделивая осанка пропала и весь гонор исчез. Что там с ней было, вроде рак груди и химиотерапия, я не знаю, да и не интересовался, помню только, что шофёр Фошкин, мерзкий тип, он есть у меня на фотографии, когда мы ездили по льду на Кижи, злорадно сказал: «Сдулась Нифашева!» Первой дамы, короче, не стало. Потом, уже в Перестройку, когда я создал Петронет или уже свободным переводчиком работал, не помню, я встретил её и другую ассистентку режиссёра Татьяну Згодько (её все звали «приживалкой» Дианы Нифашевой, и она действительно бегала за этой дамой как собачка). Згодько была очень худой, очкастой и неприятно крикливой. Мы даже с ними прогулялись с километр по Петрозаводску, поболтали. Обе они уже ушли, Диана-то точно, на пенсию, в Карелии, приравненной к районам Крайнего Севера, как известно, женщинам пенсию дают в 50 лет, а мужчинам в 55. Так вот их было не узнать! Милые в общении дамы, ничего из себя больше не строившие и не воображавшие много.
Ещё одна стычка произошла, когда я зачем-то зашёл в приёмную председателя Прокуева, об этой сволочи рассказ будет в самом конце моего повествования о Карельском ТВ. Не помню, сидела ли там уже секретарша Ирка, будущая третья жена Тольского или секретаршей была старая дама, но в инвалидном кресле-каталке в приёмной разместилась как у себя дома какая-то старушенция, которую я и знать не знал. Потом оказалось, что она была диктором радио. Как я понимаю, работала с самого начала образования этого заведения и считала себя пупом земли и матерью-основательницей, хотя её прямым делом–то было читать написанное другими по бумажке. Я сделал свои дела, получил, наверное, какую-то справку или подписал командировку, и собрался было уходить, как она спросила меня, что я заканчивал, какой факультет. Я удивился, что за помещица Коробочка такая тут восседает и вопросы задаёт, но спокойно ответил, что закончил иняз. На что она фыркнула что-то вроде: «Ну, я так и знала!» Она, видимо, ожидала, что я её начну расспрашивать, а что не так, какую ошибку, возможно, в моей передаче она нарыла, а ведь скорее всего ноги росли именно оттуда. Ведь это я передачи коллег, включая 99–209, смотрел исключительно, когда надо было обзор на летучке делать, а этой калеке делать нечего, вот она и просиживала пролежни перед чужими программами. Но я ей такой возможности не дал, развернулся, посмотрел на неё как солдат на вошь, благо года два я к тому времени уже отработал, и мнение убогой дикторши меня не колыхала вообще никак, и ушёл. После чего при встрече с ней я демонстративно отворачивался и пусть скажет спасибо, что не плевался.
ПОЧЕМУ В МОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ ВСЁ ПРАВДА
Я хорошо понимаю, что мои воспоминания, которые я считаю самыми правдивыми и непредвзятыми, ещё и потому, что мне уже никогда не жить среди людей, о которых я пишу, могут кому-то из них, наверняка большинству, показаться злыми и предвзятыми. Это не так. Они просто верны. До мельчайших деталей, о которых я помню и которые спешу воплотить в строчки, чтобы не утратить навсегда, если с памятью моей что-то станет. Пусть они, например Анна Цунская, пишут, какой дружный был у нас коллектив, как здорово было всем работать в нём.
Я пробежал некоторые из её статей. Она писала, например, о Юрие Рогожине, зам. председателя комитета по ТВ и РВ, принимавшем меня на работу в ноябре 1980 года. Говорила о том, что его, бедного не поняли, он вынужден был уехать в Сибирь. Например –
Рогожин же человек деятельный, активный. Он рано вступает в партию (какую – понятно, одна была партия), оканчивает высшую партийную школу, определяющую карьерный рост. И в один – увы, не прекрасный! – день становится заместителем председателя комитета по телевещанию. Но не зря предостерегают творческих работников от административных должностей. Не их, не их это дело. И Юрий Михайлович Рогожин в гуще неизбежных бумажных и человеческих капканов начинает терять друзей и не чувствовать недоброжелателей. Он уехал в Норильск с обидой в сердце, так и не осуществив свою раннюю мечту, – экранизировать рассказ «Берег принцессы Люськи».
“Берег принцессы Люськи”, это, конечно, круто, хотя из рассказа Цунской неясно, что же или кто же помешал Рогожину осуществить эту прекрасную мечту. А главное, зачем? Ведь фильм с таким названием по рассказу Куваева уже вышел на экраны в 1969 году. А я вот помню хорошо, что вид у этого Рогожина, смазливого мужика с кудрявыми волосами, был как у жиголо и взгляд плотоядным.
Как-то раз, не знаю, кто это придумал, наверное, партийный комитет, решили проводить встречи “молодых” со “старыми”. То есть в малом актовом зале рядом с “Молодёжкой” несколько раз выступали ветераны ТВ. Я запомнил только два, а всего их и было не больше трёх, да и то, раз не запомнил, может быть и два всего было. Сначала выступал оператор Новиков, который рассказывал о том, что и как снимал. Самым интересным был его рассказ об очерке про карельских хирургов, вроде из Республиканской больницы, где мне потом две дырки в пузе сделает один из таких эскулапов, но уже в 1996 году. Он повествовал, как для того, чтобы показать их работу нашли старый матрас, над которым те хирурги и трудились, вспарывая его скальпелями и зашивая потом нитками. Больше ничего в памяти не осталось.
Вторым выступал режиссёр Юрий Хорош, о котором подробнее напишет Анна Цунская в газете “Лицей” (Телевидение Юрского периода). Он, как Анна упоминает в самом начале своего рассказа о нём, был “репатриантом из Харбина”. Я полагаю, что, вполне возможно в его семье была какая-то история с близкими, возможно и его отцом, могу только предположить, конечно, фактов у меня нет, но в результате Юрий Хорош как-то уж очень навязчиво показывал свою лояльность советской власти.Мне, диссиденту в душе, это показалось даже несколько неприличным. Что я очень хорошо запомнил, так это тот факт, что Юрий сохранил какие-то контакты с американцами и даже встречался с ними, то ли во время их туристической поездки в Россию, то ли они приезжали по приглашению. И вот он говорил, что американцы задали ему вопрос, есть ли у него машина, на что тот ответил, что у него несколько десятков, мол, машин, потому что в его распоряжении имеется “целый автомобильный парк комитета по ТВ и РВ”. Это было, конечно, смешно всем нам слышать, потому что все знали, что даже по насущной необходимости ты запотеешь эту машину получать. Заявку на неё надо подать чуть ли не 48 часов до выезда, да и не всегда твою заявку одобрит какая-нибудь Тарова.
КОЛЯ КРАШЕНИННИКОВ
Но я-то помню другого Крашенинникова, да и пишу о времени работы на советском ТВ. Ясно, что Перестройка всё поломала, для кого-то к добру, а для других к худу. Тот Крашенинников, которого я больше всего запомнил, как я уже сказал, был спортивен, поджар и по-своему симпатичен. 2 июня 2006 года в газете Столица написали:
«... вчера ушел из жизни тележурналист, спортивный обозреватель ГТРК «Карелия» Николай Крашенинников. Он родился в Ленинграде, учился в Петрозаводском педагогическом институте на физико-математическом факультете, двадцать лет работал механиком Кестеньгского леспромхоза. Журналистскую деятельность начал в военной газете «Звезда» в Архангельской области. Работал на радио в Архангельске, Петрозаводске. В последние годы он готовил спортивные передачи на Карельском телевидении. Николай Крашенинников – известный в Карелии спортсмен, чемпион России среди студентов по метанию копья, многократный чемпион Карелии в этом виде спорта».
Потом в другом месте, в статье от 14 мая 2020 года я прочитал:
«14 мая 1947 года родился Николай Евгеньевич Крашенинников, спортсмен, тренер, журналист, телеоператор, поэт. После окончания Карельского государственного педагогического института работал школьным учителем в Лешуконье Архангельской области. Там же начал печататься в районной прессе, работал на местном радио. После возвращения в Петрозаводск Николай Крашенинников пришел на ГТРК «Карелия», где сначала трудился радиожурналистом, а затем связал свою творческую судьбу с Карельским телевидением. Не один десяток лет посвятил он спортивной журналистике. Его передачи и репортажи, всегда профессиональные, сделанные с глубоким пониманием материала и бескорыстным, теплым вниманием к людям спорта, пользовались большой популярностью. Не пресловутые «голы, очки, секунды», а живые человеческие судьбы — вот что привлекало его в первую очередь. Автор передач и репортажей о спорте, здоровом образе жизни и сам был отличным спортсменом и тренером. Чемпион России среди студентов по метанию копья, многократный чемпион Карелии в этом виде спорта, он и после сорока участвовал в соревнованиях, занимал высокие места на чемпионатах России и Финляндии среди ветеранов спорта. Его сын Евгений пошел по стопам отца: он сильнейший копьеметатель Карелии. Немногие знали, что «карельский Бельмондо», как полушутя-полувсерьез иногда называли Николая близкие, пишет великолепные стихи, которые отличали тонкая, порой ироничная наблюдательность, склонность к философским обобщениям и профессиональное владение техникой стихосложения. Его называли карельским Бельмондо».
Не знаю. Что-то в этом было, аналогии не рождаются на пустом месте. Мы не особенно общались на первых порах, то есть в течение нескольких месяцев совместной работы. Всё-таки радио и телевидение разделяло многое. У первых был в распоряжении катушечный магнитофон на батарейках, куда можно было записать на одну кассету не помню сколько, но достаточно много, может быть и полчаса, после чего кассету можно было сменить и записать ещё. У нас в распоряжении не было ровным счётом нихуя. Всё надо было заказывать заранее, расписывать и т. д. Ну да, у нас была картинка. Но на полтора часа передач в месяц давалось с гулькин член плёнки. С лимитом один к двум, о чём я уже говорил. Потом, в какой-то момент, когда Перестройка Горбачёва хиляла в полный рост, Коля стал рассказывать о том, как организовывал журналистские пробеги в Архангельске. Упомянул о том, что парк машин на тамошнем ТВ был похуже того, что в столице Карелии, поэтому ездили они без сопровождающего “козлика”, как потом поедем мы, зато порой кидали велосипеды в кузов попутного самосвала и проезжали какую-то часть пути в кабине. Надо полагать, что их и было-то человека 4 максимум, больше в кабине не уместишь. Ну, идея как-то захватила нас. Сначала подспудно, а потом и явно. Мы стали с Сашей Колобовым о ней говорить.
Ага, вспомнилось ещё о Коле, как он записывал какую-то бабку в карельском селе, державшую коз или овец. И задал ей вопрос типа, а носки да варежки вы вяжете из своей шерсти? Долго потом это ему вспоминали.
ПЕРВЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
Потихоньку, с неукротимой энергией Коли, идея стала приобретать конкретные очертания. Я не знаю, сходил ли Коля вначале к своему начальнику Валентику, чтобы обсудить проект, или сразу пошёл к председателю Прокуеву, но добро ему дали. А организатором Коля был отличным и сразу же стал работать над воплощением идеи. Примерно в начале мая 1987 года он проехал со своим магнитофоном по предполагаемому маршруту, конечной точкой включавшему село Паданы. Наделал репортажей и договорился о том, что человек пять поедут скоро на велосипедах, нельзя ли приютить по дороге, ну а в самом селе они выступят с рассказом о Карельском ТВ и всё такое прочее.
Забегая вперед, скажу, что всё намеченное прошло без сучка и задоринки. Я к тому времени поплавал два месяца на “Полярном Одиссее” боцманом, но идея пассивного, в том смысле, что ты сам двигался мало, ещё одного приключения такого рода меня не сильно влекла, хотя клуб ПО строил какие-то кочи, то есть поморские ладьи. А велопробег – дело живое и для ног полезное. Ну и для остального тела тоже. Ближе к концу мая всё обрело форму. До этого часть из нас съездила в тренировочный поход за 50 км от Петрозаводска, значит всего 100 км с обратной дорогой, чтобы проверить наши силы. Никто особенно не устал, а ехать мы так и рассчитывали – 100 км, потом привал. На карте выше показано, каким примерно был наш маршрут.
Фото, где мы идём по брусчатке площади Ленина вдоль Вечного огня, очевидно, что действие постановочное, для съёмок, скорее всего снимал Вася Петухов только для “Комсомольца”, но, вот стоит какой-то микрофон, не знаю чей, может быть и ТВ. Первым идёт “командор” пробега Коля Крашенинников, потом корреспондент радио Лёня Олыкайнен (совсем недавно – дополняю в конце сентября 2022 года – его сын набрёл на меня в ФБ, после чего мы с Лёней задружились снова. Он живёт в Финляндии, хотя, несмотря на свою фамилию, финского по приезде туда лет уже 20 назад не знал и работал таксистом).
Потом иду я, за мной следует Игорь Ильин, за ним Игорь Макаров и водитель нашего “Уазика” Сергей Скалдин. Снимает Саша Колобов, он есть на другом фото, рядом со мной, стоящим спиной и снимающим. Думаю, что снимал тогда фотокор газеты “Комсомолец” Вася Петухов, который поедет потом с нами ещё в два пробега. Даже будет собираться в четвертый, в Норвегию, но что-то помешает.Хотя май почти заканчивался, я хорошо помню, что дубак был страшный и уже когда мы были в пути начал падать тут же таявший снег.
Но руки на руле закоченели тут же, и меня спас Саша Колобов, давший мне перчатки.
То ли у него была запасная их пара, то ли его руки не мёрзли.
Километров за не помню сколько от Петрозаводска, но не меньше ста, остановились на первый привал. Заварили чай, может какой суп сварганили. Аппетит был отменный. Я уже, конечно, забыл, как так получилось, что у меня были отсняты и цветные слайды, судя по плохой цветопередаче, на плёнку “Свема” советского производства, наряду с ч/б снимками.
Надо отметить, что недостатка в продуктах у нас не было и ели мы от пуза. Коля делал бумагу от имени председателя госкомитета Прокуева с просьбой, там, Карелпотребсоюзу, основному держателю дефицита в республике, помочь в обеспечении велопробега из стольких-то человек. Он мог и прибавить количество участников, но фактом всегда было, что мы привозили домой банки сгущёнки-тушёнки, печенья и чего-то ещё. Может быть, даже и не платили за продукты, так как Коля выбивал «материальную помощь». Но, честно, не помню такие детали.
Перед Эльмусом – первой точкой нашего ночлега, остановились попозировать для снимков.
Был ещё один привал на каком-то пороге, но сейчас совершенно невозможно сказать, было это до Эльмуса или после того, как мы переночевали. Эти сканы сделаны не с негативов, а с отпечатанных карточек, поэтому качество хромает. Но документ есть документ, важно отразить событие. Немного подумал, посмотрев на карте, и решил, что это могло быть где-то в районе Гирваса, известного порожистой рекой Суной. Я думаю, что снимки сделаны моим Зенитом с автоспуска. Тут мы все разом.
Проехали после этого ещё столько же и остановились на ночлег в Эльмусе.Посёлок расположился в 130 км от столицы. Нас встречали ученики местной школы.
А разместили нашу команду в конторе леспромхоза, куда притащили кровати с пружинными основаниями, матрасы и одеяла.
Дату нашего пребывания в Эльмусе запомнить легко. 28 мая 1987 года. По случаю двух событий. Первым был день пограничника, до чего никому дела ровно никакого не было, а вторым – приземление Матиаса Руста на Красной площади в Москве, чем этот день был ярко отмечен.
Я помню, как горячо мы обсуждали событие, о котором услышали по радио Коли. Он никогда не расставался с маленьким приёмничком.
Вечером у нас был концерт в местном Доме культуры. Перед концертом в конторе леспромхоза, как и положено, была проведена репетиция. Я помню, что Игорь Макаров что-то исполнил, аккомпанируя себе на гитаре, Саша Колобов прочитал, к несколько обалденному недоумению публики стих Маяковского 1913 года «А вы могли бы?», но самым ярким было, без сомнения, выступление «командора» Крашенинникова. Коля читал стих Ф. Остолопова, который называется:
И состоит из следующих псевдо-церковно-славянских строк:
Егда аз убо тя узрех,
О ангел во плоти чистейший!
Впадох внезапу в лютый грех,
Грех велий, абие презлейший.
Держах псалтирь тогда свою
И чтох кафисму уж шестую,
Как увидох красу твою —
Аз книгу изроних святую.
Власы твои — как стадо коз 1
Близ Галаадския долины,
Как кедр Ливанский твой есть нос
И взоры — яко голубины.
И так далее, стих довольно длинный.
После этого к Коле накрепко прилипла вторая, после «командора» кличка: ЕГДА. Автором её был Саша Колобов. На первом снимке он показывает, что именно имелось в виду под “егдой”.
После концерта распили на всех одну бутылку водки от Крашенинникова. Колобов не пил тогда, поэтому всем перепал на язык граммов по сто, что с устатку было в самый раз, чтобы заснуть, как убитыми. Ночью, пока мы спали, у нас пропали какие-то носильные вещи типа шапок или рукавиц, которые мы, не ожидая такой борзости, оставили на вешалке в прихожей конторы. Хотя, думаю, произошло это уже утром.
Сквозь сон мы слышали за дверью нашей комнаты какие-то голоса, очевидно это собрались рабочие, разъезжавшиеся потом по лесным делянкам.
Все знали, что рядом ночуют заезжие журналюги, почему бы не дёрнуть у них предметы одежды перед развозом на работу? По-моему, у Игоря Макарова что-то пропало, куртка или перчатки.
На фото-коллаже выше показан наш скромный ужин с одной бутылкой водки на шестерых и момент перед отходом ко сну. Игорь Макаров взял гитару и перебирает струны, журналист радио Игорь Ильин что-то пишет в блокнот. Лёня Олыкайнен рассматривает свою зубную пасту. Как там в этой конторе было с удобствами по части туалетов-умывальников, мне уже не вспомнить.
После этого мы попилили на Масельгскую. Там, мы, кажется, не ночевали. Сажали деревья, снимались у памятника. По пути встретили Наталью Карабанову и Сашу Веснина, они были на “Уазике”, который вёл Вова Клодт, сын известного в республике тренера по баскетболу. Он на снимке с бородкой и усами между Лёней Олыкайненым и Сашей Колобовым. Опять же повторюсь, сейчас, по прошествии более 35 лет, совершенно невозможно вспомнить хронологию тех событий. Конечно, помогают такие вехи, как дорожные указатели. Вот тут видно, например, что мы практически доехали до Масельгской.
На станции Масельгской мы не ночевали, но я и Коля сделали пять снимков, 4 из которых я объединил в отдельную галерею. Вероятнее всего, карточек было побольше, но с переездами часть была утрачена.
Они приобретали тогда объёмность после мытья. Коля сделал снимок, скорее всего на мою камеру, либо наутро, либо в тот же день днём, когда мы только располагались на ночёвку, хотя скорее первое, погода была солнечной и тёплой. Карточки, что вы видите ниже, есть результат съёмок моих и Коли. Легко догадаться, кто что снимал. Одна фотография, там, где Игорь Макаров держит гитару, снятая с участием всей группы, сделана Колей с автоспуска его “Зенита”, а потом отпечатана им. Или могло быть так, что это я снимал.
Я думаю, что у меня если была одна камера, может быть тоже “Зенит” (потому что была ещё и ГДРовская “Практика”, то объективы были два от “практики” – один телевик 150 мм, а другой широкоугольник, вроде 29мм. Был и штатный зенитовский “полтинник” (50 мм). Вырезанная эмблема с быком и словом ТАУРУС осталась, по всей видимости, от стройотряда, который что-то возводил в леспромхозе. Как мы это делали в 1977 году в Ляскеля. Делали благоустройство для школы, куда будет распределена Света. Разумеется, все эти фото есть у меня в архиве в полном формате.Судя по всему, у Коли тоже было два фотоаппарата - зеркалка Зенит и какая-то дальномерная камера. На втором снимке точно не мой аппарат, так как у меня обе камеры были зеркалками.
Шапка у Коли вязки какого-то местного предприятия. Надпись спереди – Aurinko, что значит по-фински «солнце».
На последней фотографии мы видим подвешенный кусок рельса. Это – своеобразный колокол. Если по рельсу вдарять молотком или обухом топора, то слышно далеко.
=====
ЭХ, ДОРОГИ МЕДВЕЖЬЕГОРЬЯ!
После этой второй ночёвки мы выехали и попилили уже до самых Падан. При этом для велосипедного похода были выбраны какие-то окольные дороги, по которым, конечно же, “буханке” радиовещания было не проехать. То есть, надо полагать, Скалдин поехал по трассе, и нас где-то ждал. А мы пустились во все тяжкие…
По пути встретилось несколько фонтанов с марциальной водой. Именно такая, железистая H2O, лечебные свойства которой превозносятся, но, как мне кажется, сильно завышены, бьёт и на первом русском курорте.
Во время войны-продолжения (1941- 44 гг) во всём Медвежьегорском районе шли бои, поэтому там финнами нарыто и сооружено из бетона всяких дотов и дзотов, которые были нами тоже слегка обследованы.
Когда, наконец, выбрались из леса и вышли на песчаную дорогу, по которой на узких шинах наших спортивных велосипедов проехать было нельзя, то даже такая дорога показалась очень хорошей, по сравнению с лесной с широченными лужами.
Тем более, что спускаться-то по ней можно было!
Ну а когда выехали на асфальт, то радости нашей не было предела, хотя и приходилось в пути чинить камеру.
Устали, конечно, до чёртиков. Буквально были измотаны. На дороге, похоже, распластался, не в силах больше не только крутит педали, но и идти, Игорь Ильин.
ЕВГОРА
Особенно надо остановиться на Евгоре, посёлке или деревне в 30 км от Падан, конечного нашего пункта. Пилили мы до него долго, по плохим дорогам, поэтому были изрядно измотаны. Я уже не помню, что там было с машиной, то ли Скалдин уехал вперед, то ли отстал. Но сил было мало, если не сказать, что никаких не было, это точно.
Как мы нашли эту бабушку я не помню, может быть и у магазина, скорее всего закрытого, где хотели купить что-нибудь бросить в топку изголодавшихся растущих организмов, только бабуся пригласила нас “попить чайку”. Приглашение было с благодарностью принято, и силы мы восстановили с помощью душистого чая, булки, нехитрых каких-то конфет, может быть и варенья. Коля потом попытался вручить её три рубля, бабка ни в какую не соглашалась деньги взять, по-моему, он всё-таки ухитрился куда-то засунуть деньги так, что она непременно нашла бы. Очень тёплое впечатление осталось, и мне вспомнилась “Песня для овернца” Ж. Брассанса, где как раз о таких сердобольных людях в трёх ипостасях поётся.
=====
ПАДАНЫ
Ну и самая большая галерея, само собой, получится у меня из снимков, сделанных в Паданах.
Самый первый, сделанный после нашего размещения, был сооружён в бане, и я даже удивился, что несмотря на запотевший объектив, хоть что-то вышло.
Кстати сказать, я не помню, сколько времени мы провели в Паданах, но хорошо помню, что там делали – выступали перед военными, школьниками, в доме культуры перед жителями посёлка, я сделал один репортаж для радио, но не помню, про что, начитал по телефону. Кормила нас школа, вроде очень хорошо, и мы опять посадили пару деревьев, выкопанных до этого в лесу и привезенных в буханке Скалдина.
Если бы плавали на лодке, то я запомнил бы. Я думаю, что мы приехали ближе к вечеру, сходили в баню, может быть приняли по 100 граммов на грудь и завалились спать.
Выступления состоялись на другой день, я что-то, помню, рассказывал о передаче «Телестружка», Коля читал про Егду.
Колобов декламировал про флейту-позвоночник.
Помню, какие-то местные девчонки подходили и спрашивали, нет ли у нас современной музыки на переписать, потому как в Ленинграде это дорого стоит, а у нас в машине стоял магнитофон, что видно было сквозь стёкла. Наверное, они были направлены к Скалдину на этот предмет. Посёлок хотя и расположен на берегу Сегозера, я не помню, подходили мы вообще к воде. Но раз есть такой снимок, то, значит, хотя бы я подходил.

Но тогда мы были уставши и было не до съёмок, спешили в тепло и, как выяснилось, в баню, о чём не знали.
Ну а утром, когда покидали Паданы, я думаю, это было 30 мая, в мой 32-й день рождения, мы были свежи, бодры и не прочь подурачиться для снимков.
Снимал скорее всего Коля, отрубивший на обоих снимках голову Игорю Ильину. Я бы так никогда не кадрировал снимок.
Я точно помню, что весь обратный путь мы проделали за день. Вполне возможно, что какую-то часть пути проехали и в буханке, потому что путь немалый. Если бы останавливались на ночлег, то карточки у меня остались бы. В пути слушали свои же репортажи – их ловил мощный приёмник, расположенный в машине Скалдина. Там даже был магнитофон, который позволял монтировать записанный материал, миксер звукорежиссёра и даже какой-то экран, может быть даже и телевизора.Скалдин подключил приёмник к рупору, смонтированному на крыше машины, и все слушали передачу.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА ПЕРВОГО ВЕЛОПРОБЕГА
При подъезде к Петрозаводску высадились машины. Если мы перед этим снимали колёса, чтобы уместить наших железных коней в машину, то поставили их снова, и торжественно въехали по проспекту Ленина.
По-моему, Скалдин даже включил для рупора какую-то бравурную музыку, под звуки которой мы и приехали к тому же Вечному огню, от которого стартовали три дня назад. Я посмотрел на расстояние от Падан до столицы – оно небольшое: 253 км по трассе, 173 км по прямой. С учётом того, что мы могли куда-то ответвляться и заезжать, и того короткого отрезка перед Петрозаводском, ну, возьмём на всё про всё 300 км. В любом случае путь туда был проделан на велосипедах точно.
По часовой стрелке: Николай Крашенинников (умер в 2006 году) Александр Колобов (год смерти -2008). Оба Игоря - Ильин и Макаров живы и здравы и у меня во френдах в соцсетях.
Леонид Олыкайнен, как я уже писал, живёт в Финляндии, наверняка уже на пенсии. Первый и последний раз, когда мы с ним общались по Скайпу, он работал сторожем в каком-то поместье, принадлежавшем новому русскому.
Ваш покорный слуга запечатлен 30 мая 1987 года в день своего 32-летия. Днюха будет должным образом отмечена в квартире, находящейся метрах в 300 от Вечного огня, на проспекте Ленина, дом 13.
Про Скалдина не помню даже его имени, не знаю, жив ли он, но его мама Христина Скалдина, художник театра кукол, была очень известна в республике.
На этом завершим вторую часть воспоминаний о Карельском телевидении.